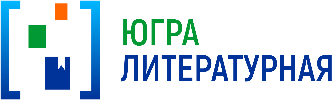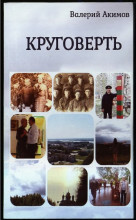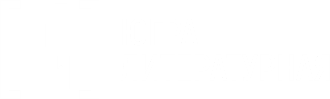Дмитрий Мизгулин «Русского сердца таинственный сад»

Разговор о сборнике «Русского сердца таинственный сад» можно начинать с любой страницы, где открылось.
На том берегу и на этом
Сирень беспощадно цветет.
Каждая строка таинственного сада, поместившегося в русском сердце Дмитрия Мизгулина, – строк в сборнике чуть более тысячи – поэтически приемлема и с печатью самобытности. Суть беспощадности цветения поэт раскрывает уже в следующем четверостишии, без какого-либо мудрствования.
О хлебе насущном, о хлебе
Все думы – ведь жизнь не легка.
Вот только куда денешься от сердца. И является именно из сердца строка по-детски наивная.
Но все же сегодня – цветенье,
Тот час следует столь же наивное признание:
И помыслы грешной души,
Преодолевая смятенье,
Плывут в предрассветной тиши.
Оказывается, естественно для человека дела, живущего под тяжестью чрезвычайных обязанностей, окунувшись в цветенье, – преображаться.
И кажется легкою ноша,
И радость веселая в нас.
О самом простом, о хорошем
Подумалось… тотчас.
Я опустил слово «мне». Эти стихи, еще не дочитанные, уже стали нашими. И передо мною чередой картины моей жизни… Когда мы жили в Крыму, 9-го мая всей семьей ездили из Евпатории в Бахчисарай. На сирень. Бахчисарай укрылся в земной трещине, по берегам Чурюк-Су – в переводе с крымско-татарского «гнилая вода». Оба края ущелья над столицей Крымского ханства 9-го мая объяты цветущей сиренью. Может, и беспощадно цветущей, как у Мизгулина.
Цветенье вот оно: дотронулся губами до цветов, и оно в тебе. А у ног, в пропасти – татарский город. Нынешний, но в нем как лепестки в твоих губах, Бахчисарай ханов-Гиреев. И каменные столбы вдоль ущелья: то ли создание океана, то ли высечены идолопоклонниками неведомых времен.
Нечаянно открыл я сборник на «Сирени» – на программном для поэта стихотворении.
Беспощадно цветущая сирень, цветущая сегодня, вопреки омерзительно загаженному миру человеческими пристрастиями и ненавистью – именно цветенье обыкновенной сирени одарило поэта мыслями о простом, о хорошем, и – невыносимая глыба его ноши стала легкой. А мне, читателю, ни с того, ни с сего подумалось о майском Бахчисарае, омываемом гнилой водой. Случайно ли? Город-сказка, поэзия фонтана слез, величие природы, да в памяти – русские рабы. Преподобный Никон Сухой объявил хозяину, что скоро он будет в родном Киево-Печерском монастыре. Татарин подрезал монаху сухожилия на ногах – уж теперь не сбежит. Только в тот же день Никон Сухой, неведомо каким образом, оказался в храме монастыря, на службе.
Беспощадно цветущая сирень открыла Мизгулину одну из тайн красоты: «Все в жизни поправить едва ли сумеешь», но, сохранив душу, сохранишь в себе образ цветущих далей. Стало быть, свободу духа. Но есть еще одно: делового человека, хоть он и поэт, цветение не в силах обмануть. Мизгулин знает не только жизнь, но и какова она, вывернутая наизнанку. И рождаются строки:
Пусть не избежать поражения
во мгле беспросветной тоски.
Ох, уж эта тоска Мизгулинская!
И все-таки… И все-таки! Цветущая сирень, превращенная сердцем в образ, не что иное, как «движение вечной реки».
В таинственном саду русского сердца Мизгулина нет разящих наповал чудес, вулканических взрывов чувства, иезуитской многослойности образов, где все крайности для посвященных. Изысканных рифм тоже нет.
Здесь сад. Здесь самое драгоценное – тишина. В «Сирени» тишина предрассветная, надежная.
Мне показалось, тема тишины – одна из самых значительных в сборнике.
«Говорите, пожалуйста, тише, наступает торжественный час», – умоляет все читающее человечество Мизгулин, и мы тотчас замираем вместе с поэтом: что нас ждет? А ничего необычного: луна, опускаясь за крыши, смотрит на нас. В этом что-то важное, но, видимо, света луны мало для сочинителя. Строка прямо-таки выплескивается из сердца.
Как мучительно долго светает!
Доверительное чувство поэта тотчас становится нашим, собственным, ожидающим, когда свет переборет мглу, и мир станет прозрачным, крыши – розовыми, и мы, будучи с поэтом заодно, заплачем от счастья. Растаявшая мгла ночи, утренний свет, розовые крыши, пробуждение, жизнь…
«Сирень» в цикле «Весна». Стихи о тишине в цикле «Лето».
А что, если продолжить нелепый метод чтения стихов «где откроется».
Нам всем необходимо постоянство,
Но постоянным в мире быть нельзя.
В стихотворении 16 строк, но проблема получает разрешение в том же четверостишии.
Незыблемо небесное пространство.
Это о Творце. А четвертая строка о нас, бессмертных в вечности, но смертных на земле.
Уйдут родные. Предадут друзья.
Хочется поспорить, постоять за друзей, но друзей-то за все 85 лет было раз-два… И самый близкий, почитавшийся другом 57 лет, перед уходом в мир иной выказал гордыню человека из власти и нелепую мелочность.
Мизгулин прав-таки. Человеческим отношениям он противопоставил природу: смотри и радуйся.
И опять лезут в голову возражения: природа умеет не только отбросить от себя человека, но и наказать. Не пощадить, обойтись без тебя, без твоей любви.
Поэзия Мизгулина афористична.
Ты сам себе придумал много правил,
И незачем других во всем винить.
Уж если в жизни что и мог поправить,
То точно – ничего не изменить.
Чем не рубаи? Но где сердце? Где тайны? Где чудо?
Я в третий раз открыл сборник наугад. Ах, чуда желал? – Получай!
И так уж немало отмерил Господь,
С лихвой одарил белобрысую водь.
Ну, может, еще и добавит чуть-чуть,
Порадовав голубоглазую чудь…
Должен признаться в своей нелепой ошибке. Стихи вроде бы проходные, но с милой концовкой.
Смотри в ослепительно-белую высь,
И радуйся жизни,
и Богу молись!
Одна из строк этого стихотворения показалась мне случайной для созерцательного произведения. А вот для меня эта строка была замечательной: «порадовал голубоглазую чудь». Чудь – северный народ, низкорослый, древний, обладавший способностью творить волшебство наяву. Чудь знала будущее человека, и вообще будущее. Поднимала с одра умирающих, награждала добрых охотников великой добычей.
Я работал в комитете малых народов, и был в нашем комитете ученый из архива, где хранились фольклорные записи о жизни чуди. Познакомиться ближе не удалось, архив помещался в соседнем доме с ЦДЛ, и вдруг переехал. Мизгулин всего лишь помянул голубоглазую чудь, хотя она белоглазая. И тут я, наконец, перечитал стихи. Мизгулин писал не о той чуди, которую держал при себе Иван Грозный. У Мизгулина чудь – вода. Я тотчас прекратил игры в гадательное чтение. Прочитал сборник как люди читают. И открыл еще одну важную для наших дней тему: «сухое дерево».
Оно других переживет – что, в самом деле, с ним случится? –
На нем листва не оживет, на ветви не присядут птицы.
Так оно и есть. На мертвом дереве отсутствие листвы – канувшая в Лету жизнь, а вот птицы…
В Евпатории на берегу лимана стояла и теперь стоит сухая софора. На самой высокой ветке этого каменного от сухости дерева каждый вечер по дороге с моря я любовался зимородком. Сине-зеленое, явившееся из неведомого далека. Клюв, продолжающий голову, устремлен для полета за тридевять земель. А теперь о листве.
Сам Господь послал мне в страшную эпоху девяностых, когда Россия перестала быть великой, тысячелетний дуб Святослава. В Запорожье.
Дуб был превращен в белый монумент. Люди, назвавшие себя украинцами, пращурами их якобы были укры, – казнили дуб Святослава, как последнего свидетеля русской Руси. Залили корни двумя бочками извести.
Я стоял перед началом начал своего русского государства, превращенного ненавистью в камень, и вдруг увидел! Одна из ветвей дуба покрыта зелеными листьями. Дуб Святослава жив.
Да простит меня автор за отступления. Дерево, о котором я рассказал, никакого отношения к стихотворению Мизгулина не имеет. Его дерево, совершенно засохшее, не знает жизни, его не отягощают плоды, болезни, солнце, вода, ветер.
Ни боли нет, ни счастья нет,
Вот долголетия секрет.
Мизгулин поэт мудрый, но здесь он не прав. Долголетие знает боль, невзгоды. Оно, превращенное в камень как дуб Святослава, имеет в себе дар русского терпения, и ведает, что это такое – счастье. Листок у сухого дерева всегда имеется, где-нибудь у корней. Весной. И жизни в сухом дереве не меньше, чем у живого. Оно пристанище для муравьев и великого множества малодоступных человеку существ.
Стихотворение, венчающее сборник Мизгулина, посвящено липе. Липа для Сибири дерево редкое, но тайга по Иртышу и Тоболу знает благоухание цветущей липы. На Ермаковом поле, где трудами и счастьем Аркадия Григорьевича Елфимова прижились, растут, живут восемь тысяч редких растений, и даже дубы, неугодные здешним морозам, гости сажают и сажают липы. Казалось бы, стихи во славу удивительного парка над Иртышом, должны быть радостными, но Мизгулин подводит читателя к бездне безнадежного для всего русского народа и государства будущего.
Господи, да что же сталось с нами,
Отчего так быстро мы сломались?
Уступили напрочь супостату
Землю, небо, помыслы и сны,
Позабыли времена и даты
Прошлого величия страны.
Исчезаем буднично и просто
С высоты небесной – в никуда,
Оставляем храмы и погосты,
Покидаем села, города.
… Ну и пусть нам больше здесь не жить,
Будет липа в вымершей деревне
С тополем по-русски говорить.
Да, все «по Божьей воле». Власти деревню у русского народа отняли. Такая жизнь. Естественный процесс.
А ведь на самом-то деле отняли родину. Помните, что было с Антеем, лишенным возможности прикоснуться к земле?
Русский человек, утративший деревню, землю – утратил национальное «я». Величайший у Бога русский язык стал без деревни мертвым. Впрочем, у Мизгулина последнее четверостишие смиренное.
Я ж глаза усталые закрою,
И услышу в жизни неземной
Как шумит весеннею листвою
Дерево, посаженное мной.
И это хорошо. А тайну мы обретаем в работе Василия Валериуса. Спираль таинственных цветов затягивает в глубины. А что они такое? Или это и есть сердце поэта, где его сад.
Спасибо за книгу-произведение создателю Тобольского книжного мира Аркадию Григорьевичу Елфимову.