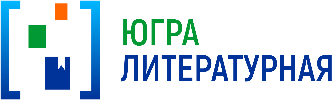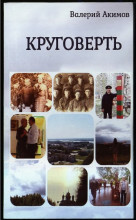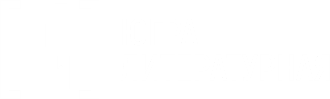Павел Черкашин. «Родина моего детства»
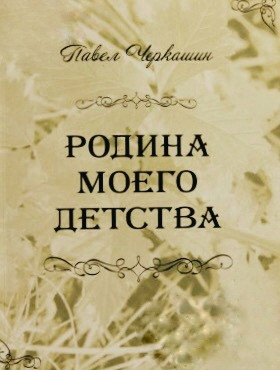
Странное всё же испытываешь чувство, когда рецензируешь книгу известного уже поэта и прозаика П. Р. Черкашина, – и при этом помнишь его университетским первокурсником Пашей, знаешь его, студенческие ещё, опыты писания, хранишь первую тоненькую книгу с трогательно старательным автографом…
Зная немало об авторе, как-то по-новому осознаёшь привычную истину: никому не дано угадать будущего. Но, прожив это будущее, редко кто захочет (и сумеет) сделать его будто и не бывшим: не просветит былую радость нынешней тоской, единение – разлукой, ликующие краски только открываемого мира – однотонностью привычных будней. Книга стихов и прозы Павла Черкашина «Родина моего детства» имеет редкий подзаголовок – «Книга сыну». Посвящение ли это? Жанровое определение? Не знаю. Безусловно одно – особое умение автора заботливо и милосердно, не обманув доверия, ввести сына (а вслед за ним и читателя) в добрый и вечный мир, не насторожив, не испугав его сложностью, но и не умолчав о ней.
Объёмному сборнику, особенно когда он включает тексты, создававшиеся в течение продолжительного времени (1989-2001), да ещё разных родов и жанров (лирические стихотворения, рассказы, эссе, этюды), всегда грозит потенциальная опасность рассыпаться, стать тем бором, где каждая сосенка сама по себе. Книга Павла Черкашина счастливо избегла этой участи. Вся она одушевлена мыслью о наследстве, которое должно быть передано из щедрых рук старших (деда, мамы, самого автора, ставшего в свой черёд отцом) тем, кто идёт следом.
Разное бывает наследство. Новое время – увы! – всё настойчивее актуализирует только первичное значение этого слова – «имущество, которое меняет владельца». «Родина моего детства» о совсем другом наследстве. Речь в ней идёт не о тугой мошне, хоромах или наделе земли. Тому, кто ещё ничего не знает о жизни, автор отдаёт целый мир – мир красоты, любви и веры. Давно расставшись с ним, лирический герой при первой возможности стремится вернуться туда, где «колыбель моя и рай». А если возвращение невозможно, спасёт память, когда сливаются сон и явь:
Старый дом. Деревенская улица.
И скамейка вросла у ворот.
Может быть, это снится мне, чудится
Дровяник, тесный двор, огород?
(Родина)
Так в стихах. Так и в прозе – в лирическом этюде «Мальчик и звёзды», рассказе «Заброшенное зимовье», в, безусловно, программном автобиографическом эссе «Память сердца».
Мотив памяти сквозной в произведениях Павла Черкашина. Напомним, что и первый поэтический сборник его назывался «Память детства» (2000). С памятью личной («На опушке костерок…», «Из детства», «Чайного цвета осенние лужи…» и др.) сливается у поэта память родовая («Кресты оконных рам…»), память «милой родины» (пожалуй, ни у одного из «русских северян» не встречала таких непосредственных и славных строк о «милом посёлке, далёких Мужах»). При этом и дедовский дом («Две ели росли возле нашего дома…»), и отцовская могила («Вот он – мужевский погост…»), и приполярное село – не только «искорки Сибири», но и «российская глубинка». Не знаю другого поэта, который бы так же решительно назвал обские края, Югру и Ямал – Рассеей. Память способна вести лирического героя по вполне реальным местам и дорогам:
От Ямгорта к Евригорту <…>
И пешочком – на Лагорту,
Что прозрачней хрусталя.
(«От Ямгорта к Евригорту…»)
Ей открыты и дороги легендарного прошлого, где мчатся «на русичей сонмы татар». Но в любом случае память в стихах Павла Черкашина осязаема. Поэт отыскивает её материальный знак, к которому можно прикоснуться («Я камешек малый привёз с Бурудана…»), ощутить его запах («Я присел у старейшины кедров // И вдохнул его хвойный дурман…», «Веет мхами и морошкой…»), увидеть цвет («…таращит алый глаз // Молодой шиповник…», «Малахитово-багряный // Над тайгой плывёт закат…»). С мотивом памяти связана метафора сердца. Источник её прямо указывается автором: названо имя Константина Батюшкова, эпиграфом сделаны строки из его знаменитого стихотворения «Мой гений». Однако и эту традиционную метафору удаётся по-своему опредметить и тем самым «остранить»: поэт боится, как бы «не треснуло» его сердце, как трескаются засохшие ели на том месте, где был когда-то родной дом… Не приведи Бог лишиться корней, потерять возможность возвращаться раз за разом в то единственное на земле место, где могут «боль и страх перегореть и превратиться в прах».
Отчётливо видно, как в более поздних стихах нарастает горечь отъединения, отдаления от родных краёв («Край родной, ты мой ангел-хранитель…», «Опять душа истосковалась…», «Нет, не красотам Приэльбрусья…»). Но точно так же, по восходящей, развивается и мотив веры в возвращение, перерастающий наконец в публицистически открыто провозглашённый обет: «Клянусь, я буду там…». Надо знать биографию поэта, в жизнь которого вошла война на Северном Кавказе, чтобы понять искренность и силу надежды, которые скрыты в этой клятве. Откройте автобиографическое эссе «Память сердца» – и вы поймёте, что для лирического героя и прозы, и стихов Павла Черкашина вера в родину неотделима от веры в святое провидение; во всяком случае, на краю небытия он посылает молитву обоим.
Тема наследства и мотив памяти в книге «Родина моего детства» обладают ещё одной важной смысловой гранью. От многих молодых художников автора отличает сознание того, что он творит в Большой Литературе. С благодарностью вспоминаются в книге имена великих предшественников – Михаила Ломоносова, Константина Батюшкова, Сергея Есенина. Отчётливо прочитываются в лирических и эпических текстах мотивы прозы Константина Паустовского, Юрия Казакова, Владислава Крапивина, поэтов, писавших о Кавказе. Речь отнюдь не о внешней подражательности и тем более не о прямом заимствовании, а о свободе говорения на поэтическом языке, которая достигается лишь сознательным ученичеством. Подобно поэтическому слову, как великий дар предков воспринимается поэтом и язык родного края – не только своего народа, но и тех, кто хозяин этого края от века. Давно своими стали имена этой земли: студёный Кузьёль, Бурудан, Кокпела, Шурышкары, Тильтим. Собственное житьё на земле поверяется реалиями, переданными когда-то чужим, но давно «ороднённым» словом («Я родился – кричали халеи…», «От Ямгорта к Евригорту…»).
Передать сбережённое слово по непрерывной цепи наследования – этим стремлением объясняется появление в книге Павла Черкашина раздела, который привычен в изданиях художников слова малых народов Севера, но не припомню, чтобы встречался у русского северянина. Речь о том, что названо автором «Примечаниями», а на самом деле представляет собой словарь географических названий, бытовых и других реалий земли по имени «ямальский юг». Впрочем, и определение «словарь» не исчерпывает особенностей этого раздела. Автор не ограничивается только толкованием значения слова. От него начинает разворачиваться сюжет собственной жизни, исторического прошлого края; рассказ о жизни человеческой дополняется рассказом о жизни птиц, зверей, трав, деревьев, цветов; от земли поднимается к горным вершинам, наконец – к звёздам. И вновь возникает ёмкий образ просторного и красивого мира, принятого в наследство и бережно передаваемого всем, кто идёт вслед.
Говоря о поэтическом языке лирики и прозы Павла Черкашина, хочется отметить ещё одну его особенность. Нет, автор не чужд игры ритмами, размерами, строфикой («Песня над тундрой», «Ритурнель» и другие). Но, думается, главное достоинство поэтического языка сборника – какая-то органическая простота, естественность говорения и образности. Объясняется ли это адресованностью сборника (напомню, мы читаем «книгу сыну»)? Конечно, нет. Скорее всего, это удивительное свойство идёт от редкого умения не забыть, сохранить в себе самом не столь ещё давнюю детскость, когда радостно создаются новые слова («лесодрём», «щёлкий звук»), когда ищутся словесные аналоги, с помощью которых «ловится» цветовое буйство мира («золотые проседи берёз», «малахитово-багряный закат»). Думаю, именно путешествие по тропе детства и поможет уйти от возможных опасностей, от которых предостерегал автора мансийский поэт Андрей Тарханов, добрым словом напутствуя его в предисловии к первому поэтическому сборнику. А приводит эта тропа в мир удивительный при всей его внешней безыскусности:
После ливня в деревеньке
Пахнет зеленью и мятой.
Выйду босым на ступеньки –
Небо тучками измято,
Но уже играет солнце
У ограды с лебедою.
Распахну ему оконце
И – на речку за водою.
(«После ливня в деревеньке…»)
Пожалуй, наиболее точно определит этот мир и авторское отношение к нему слово «милый». Оно, кстати, кажется, самое любимое и часто встречающееся в поэтическом словаре книги: «на родине на милой повыпали снега», «милый посёлок», «милые мои старики», «милые, милые дали», – этот ряд можно длить и длить. Но важнее понять, почему так охотно, так последовательно пользуется им художник, дополняя словами «родной», «любимый». Уверена, что так проявляется не декларированная, но от этого не менее чёткая не только художественная, но и человеческая позиция – небоязнь «незрелого тихого слова». Сейчас это редкое, редчайшее качество – так открыто, так доверчиво признаваться в любви и делать свидетелем этого признанья целый мир:
Я люблю маму,
Люблю своих близких,
Люблю незнакомых,
Но милых людей.
Я люблю снег,
Однокурсницу Лизку,
Родного подъезда
Скрипящую дверь.
(«Я люблю звёзды…»)
Старые и малые, на двух ногах или четырёх лапах («Вечер. Выйду на крыльцо…», «В гостях у Найды»), вросшие в мёрзлую землю или летящие в «холодных просторах» – все, кто живёт в мире, равно дороги автору. Значит ли это, что «вечный мир», открывающийся в книге, благостен? Отнюдь. Достаточно прочитать любой текст из прозаического раздела сборника, чтобы понять, какими сложными видятся автору отношения человека с человеком («Дорога под звёздами»), с природным миром – тайгой («Ведьмино болото», «Забавный случай») или её обитателями («Поединок»). Поступки героев рассказов и эссе, как и в стихах, одушевлены памятью и благодарностью («Громовская избушка», «Заброшенное зимовье»), диктуются готовностью отвечать за невольный грех, за слишком поздно обретённое понимание сути вещей («Анастасия», «Поединок»). Придирчивый критик, пожалуй, имеет основания обвинить автора в узнаваемости ситуаций: уж сколько раз в русской прозе мы видали, например, бедолаг Карюх и Рогуль! Да вот только часто ли нам встречались коровы Настасьюшки?
Не нова, конечно, и сама повествовательная манера – использование сказового приёма. Но «не первое» не означает «вторичное» и ещё менее «неорганичное». Да, где-то приём менее удачен («Заброшенное зимовье»). В других текстах «чужое слово» уловлено точнее, передано естественнее, организует живой непосредственный диалог («Жили-были старик со старухой»). Но в любом случае за поэтическим приёмом снова прочитывается не только художественная, но и жизненная позиция автора – уважение к человеку, стремление доверить ему слово о мире и готовность довериться этому слову. Надеждой на упрочение этой позиции в последующих произведениях Павла Черкашина и позволю себе закончить слово о книге «Родина моего детства».
Книги Павла Черкашина можно взять в отделе обслуживания – 1 этаж, и в отделе краеведческой литературы и библиографии – 3 этаж
Читайте и будьте счастливы!
Всегда ваша — Государственная библиотека Югры